|
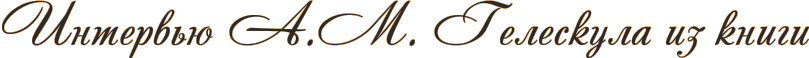
Елена Калашникова. По-русски с любовью: Беседы с переводчиками.
М.: Новое литературное обозрение, 2008.
– Как вы пришли к переводу?
– Довольно случайно. Случайность состояла в том, что меня выгнали с четвертого курса геолого-разведочного института, и я, пока
устраивался на работу, решил заняться самообразованием. В Ленинской библиотеке был такой
отдел – «Дар испанского народа», довольно тощий; я слегка знал язык (дружил с испанскими ребятами) и среди даров обнаружил «Цыганское романсеро» Гарсиа Лорки. А Лорку я уже знал по русским переводам, которые любил и доныне люблю. Но переводов было немного, и
я вознамерился заполнить пробел, старательно копируя ритмические и лексические особенности подлинника. Результаты были до
жути плачевными. К счастью, я очень поздно начал печататься и к тому времени кое-что уразумел и даже кой-чему научился.
– Вы кому-нибудь показывали свои опыты? Друзьям-испанцам?
– Зачем? Они по-испански читали. И потом я, например, до сих пор не могу оценивать переводы русских стихов
– для меня они существуют в
единственном виде. А свои опыты я стал показывать много позже, когда прочел в «Иностранной литературе» новые переводы Лорки.
Мне показалось, что мои не хуже, и я проделал любопытный эксперимент, практически бесполезный, зато познавательный. Я обошел едва ли не все
московские журналы и действительно узнал, что такое заходить в редакцию с парадного входа. В одном месте мне сказали, что у них есть свои переводчики.
В другом при словах «переводы Лорки» спросили: «Какой Лорки?» В третьем, напротив, обиделись: «Вы приходите в наш журнал и собираетесь нас
просвещать?» В четвертом еще забавней – там сочли, что это мои собственные стихи, и прислали довольно теплое письмо: стихи похвалили и предложили
прислать еще, только другие, «более актуальные по содержанию». И посоветовали учесть, что «наш журнал не только литературно-художественный,
но и общественно-политический». Совет не пригодился, но письмо я благодарно сохранил. Еще в одном месте
– кстати, в Литинституте, я и туда толкнулся –
тогдашний ректор, кажется Серегин, объяснил мне, что «Лорка – конструктивист, а печатают его у нас потому, что фашисты убили». Я плюнул и
ушел. Ну, не буду утомлять вас мемуарными мелочами, вернемся к делу.
– Как вы учили язык? По учебнику?
– Учил как умел, наверно, самым варварским образом, у меня нет способности к языкам, да и интереса к ним тоже; мне интересно, что на них сказано
и написано. Вот испанский язык я осваивал дольше (и друзья помогали), а знаю меньше, чем не знаю. Но все-таки думаю, что
лучше всего учить язык по стихам. Запоминать легче, а главное – ведь поэзия не только хранительница
языка, но его любимое детище, по нему можно судить о родителях. Вообще я думаю, что язык нельзя выучить, в нем
надо родиться. Маленький пример. Испанское noble даже не нуждается в переводе; термин «нобили» вошел и в
русский язык. Благородный, знатный, аристократ. Мой друг побывал на родине, в Астурии. На ярмарке крестьянин продает лошадь и, набивая цену,
накручивает на руку хвост, дергает так и этак, демонстрируя ее покладистый нрав: «Видишь? Я же говорю, она noble». В народном обиходе благородство означает
совсем иные добродетели – терпеливость, надежность, – и никаких тебе подвохов и фокусов. А теперь представьте, что вы переводите
народную песню. Да что песня! Думаю, что непереводимо обычное русское слово «тоска». Понятно, что в романских и
славянских языках тоска – то, что теснит, от чего человеку тесно в мире и в себе самом. Но и тесно бывает по-разному.
Наверно, тоска – не последнее, что гнало на восток русских первопроходцев. И что же? Заселили шестую часть
суши, а тоска осталась. И Тургенев считает исконной и сугубо русской чертой – на родине тосковать о родине.
– Говорят, чем ближе язык, тем сложнее с него переводить. Вы чувствуете эту
сложность, например, при переводах польской поэзии?
– Нет, тем более что язык далеко не близкий. Да, корни славянские, но само отношение к слову разное. Русское слово, каким бы метким и ярким ни было,
растворяется в речевом потоке, оно всегда в движении. А поляки как бы держат слово на ладони, любуются им и передают друг другу. Это, скорее, романская
манера говорить. Вот украинский язык действительно кажется близким, но это тоже обман зрения и слуха. Язык это особый, особенный, хочется сказать
–
очень самобытный, и думаю, что долгая русификация Украины не пошла ему на пользу. Мнимая близость соблазняет переводчиков и
побуждает копировать. Мне кажется, что гениальный Шевченко в полный голос не прозвучал по-русски. И мог бы прозвучать по-испански. Хотя бы потому, что силлабика, даже такая мягкая и едва уловимая, как украинская, в дисциплинированном русском стихе не приживается, стих начинает ковылять
–
знакомая медикам перемежающаяся хромота, на обе ноги.
Великий поэт и, добавлю, великий переводчик Николай Заболоцкий незадолго до ареста перевел несколько песен из «Витязя в тигровой шкуре». Стихи
подлинника – это шаири, традиционный грузинский размер, излюбленный стих народных песен. Но грузинский шаири с его сказовым, слоговым ритмом обладает
большой внутренней свободой, ритмической и интонационной, а втиснутый в классические русские рамки, становится вялым и монотонным. Заболоцкий смело
изменил ритмику и рифмовку – и получилось замечательно. Однажды он уже в лагере услышал свой перевод по радиорупору, заслушались и товарищи по
судьбе. Спустя годы он, уже на воле, перевел, старательно соблюдая размер, «Витязя» целиком
– и, по-моему, академичней и хуже. И совсем по-иному
перевел Важу Пшавелу, целую книгу поэм. Пшавела по мощи и даже по складу близок Шевченко; он народный поэт, притом писал на горском диалекте, и,
разумеется, его излюбленным размером был шаири. Заболоцкий перевел его лермонтовским стихом. Недопустимая вольность? Но зато в нашу литературу
вошел могучий русский поэт кавказской национальности, как нынче выражаются. Еще один русский поэт из далекой Шотландии
– Роберт Берне; не знаю, какие
вольности допускал и допускал ли Маршак, но, честно говоря, и не хочется знать.
– Какой язык и культура вам ближе или вкусы меняются?
– Поэзия, естественно, русская. Думаю, что кроме нее в двадцатом веке было еще две великих поэзии
– испанская и польская; они очень разные, но роднит
их непритворный трагизм, дорого оплаченный и поэтами, и народом. Об английской (англоязычной) судить не могу, знаю только по переводам. О языках
тоже промолчу, я не филолог. По-моему, все хороши. В кино я видел язык жестов: старик из лесного племени папуасов что-то объяснял белым
путешественникам – выразительней и прелестней трудно представить. О культурах тем более не берусь рассуждать. Что до русской, то с годами все
больше понимаешь, что она жива, почему выжила и почему нас переживет.
– И почему?
– Трудно объяснить. Разве что вспомнить гениальное двустишие, даже не знаю –
чье: «У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба».
– Кто сейчас вам ближе из переведенных поэтов? Все равно Лорка?
– Да. И Болеслав Лесьмян. В последнее время – Галчинский. С ним у меня целая история. Давным-давно мне в руки попала стопка стихов Бродского
–
разумеется, подпольная, на папиросной бумаге, с ошибками и опечатками. Одни стихи мне очень понравились, другие не очень, а вот стихотворение
«Лесничество Пране» просто очаровало. Над заглавием, сбоку, стояло «К. И. Галчинской». Видимо, решил я, посвящение и мысленно поблагодарил неведомую
Галчинскую, подвигшую поэта на такие стихи. Позже знающие люди мне объяснили, что это существо мужского пола, польский поэт Константы Ильдефонс
Галчинский, а стихотворение – это перевод. Я и сейчас считаю, что это лучший русский перевод Галчинского. А тогда почувствовал, что должен прочесть этого
поэта. С него и началось мое соприкосновение с польской поэзией.
У меня вообще редкое везение на опечатки. Даже коллекционирую мои имена, не говоря о фамилии; набралось с десяток экземпляров
– от Гелиоскула до Гилескуала.
Ну, это ладно, а вот напечатанное в школьной хрестоматии «Цыганское романсеро» в моем переводе начинается лучше некуда: «Луна в цыганскую кухню
зашла и т.д.». У Лорки луна заходит в кузню. И ведь по десять раз правлю в верстке. Ставлю восклицательные знаки, иногда пишу на полях: «Если не
исправите, повешусь, а вас будут судить». Бесполезно. Утешает одно – терпи – бывает куда хуже. Ахматова изумительно перевела Тувима, но в стихотворении
«Цыганская библия» вместо «запах нарда» напечатали «запах народа». Анну Андреевну с сердечным приступом увезла «Скорая».
– У вас есть свои любимые переводы?
– Наверно, есть, но никогда об этом не думал. Вот нелюбимые помню. И потом ведь переводы
– свои, пока их делаешь, а после становятся чужими. Настолько,
что хочется заново перевести, совсем иначе.
– В советское время перевод считался искусством (книги «Высокое искусство» К. Чуковского, «Перевод
– искусство» Н. Любимова), сейчас же в
нем видят, скорее, ремесло. По-вашему, к чему он ближе? Или это нечто среднее?
– Думаю, что это искусство. Не творчество, но искусство. Другое дело, всегда сомневаешься, насколько ты сам искусен. Это искусство, родственное
исполнительскому, но не совсем – скорее это переложение с одного музыкального инструмента на другой. И вот что важно. Существуют переложения
Баха для гитары, но при этом гитара не должна задыхаться под непосильным бременем звуков, а говорить своим голосом. Но это уже зависит от музыканта.
Один великий пианист прошлого века так определял три ступени исполнительского мастерства: «Первая. Удалось не ошибиться. Вторая. Удалось
ошибиться. И третья. Не удалось ошибиться». По-моему, это полностью применимо к переводу, и добавить тут нечего. Кроме одного. С двумя ступенями
все понятно: первая – ученическая, вторая – уже обнадеживающая. А третья?..
Замечательный пианист Анатолий Ведерников рассказывал такой случай. Играет он большую вещь и вдруг с ужасом понимает, что дальше не помнит, все забыл.
Что делать? Вставать, бежать за кулисы? От отчаяния он начал импровизировать (то есть фантазировать, а на переводческом жаргоне
– нести отсебятину). И
поразительно – в первых рядах сидели его друзья-музыканты, и никто из них ничего не заметил. Наверное, это и есть та третья ступень, на которую
взбираются очень и очень немногие.
– Последний вопрос. Цитирую Наталью Ванханен: «Трудность в том, что невесомое в переводе часто становится
банальным, а ведь в оригинале оно таким не было... например, народная поэзия, испанские coplas».
– Наверно, надо знать и любить частушки и вообще русский фольклор. Они подскажут... Но, конечно, Наташа права. У народной поэзии слишком глубокие
корни, и при пересадке они легко обрываются. Но соприкосновение с ней бесценно; она умеет сказать о нас и за нас многое, что сами сказать мы бы не
решились. Когда московские литераторы прощались с Борисом Слуцким, его самый давний (на протяжении полувека) и самый близкий друг Давид Самойлов вместо
надгробной речи прочел народную испанскую коплу, недавно им переведенную:
Встретились живой и мертвый
От погоста недалече.
– Друг, прощай, – живой промолвил,
А мертвец сказал: – До встречи!
Апрель 2005 г. – июнь 2005 г.
|
